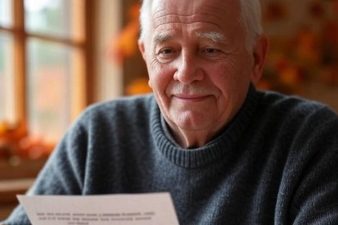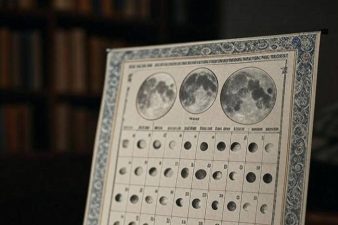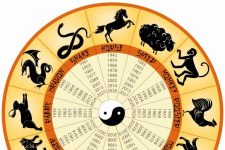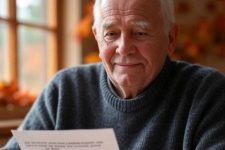Один прячется – другой тревожится: психолог Татьяна Саморукова-Затучная объяснила, как типы привязанности влияют на отношения

Москва, 12:25, 10 Сен 2025, редакция FTimes.ru, автор Татьяна Соломон.
Теория привязанности сегодня переживает, можно сказать, второе рождение. Разработанная психологами еще в середине XX века, она объясняет, как ранний опыт отношений с родителями формирует наш стиль близости во взрослой жизни. Но если раньше эта теория оставалась в научной и терапевтической среде, то сейчас она стала популярным культурным кодом: ролики с описанием «надежной» или «тревожной» привязанности набирают миллионы просмотров, а в социальных сетях люди обсуждают свои паттерны так же охотно, как знаки зодиака.
Всего в психологии выделяют три основных типа привязанности: тревожный, избегающий и надежный. И это еще не считая сложных комбинаций: например, тревожно-избегающий тип у партнера. Насколько теория привязанностей отражается на нашей повседневной жизни и близких отношениях? Как терапия помогает корректировать паттерны, чтобы укреплять эмоциональные связи человека? Об этом мы спросили практикующего гештальт-терапевта с 30-летним опытом в индивидуальной и групповой психотерапии Татьяну Саморукову-Затучную. Специалист работает с тревожными и пограничными состояниями, расстройствами самооценки, паническими атаками, депрессивными эпизодами и экзистенциальными кризисами.
Татьяна, как вы относитесь к теории привязанности и часто ли находите ее отражение в клиентах? Как проявляются разные типы привязанности во взрослом возрасте? Например, в романтических отношениях или дружбе. Какие маркеры поведения позволяют их распознать? И правда ли, что люди с разными типами привязанности с большим трудом будут «уживаться» вместе?
— Теория привязанности для меня – не красивая метафора, а рабочий инструмент: она объясняет, почему в одних отношениях мы чувствуем опору, а в других – постоянную встряску. Я вижу ее отражение в каждом кабинете: у кого-то безопасная привязанность проявляется как спокойная способность просить помощи и отвечать на просьбы партнера; у кого-то тревожная – как постоянный поиск подтверждений, ревность, «приклеивание» и панические реакции на паузы в общении; у кого-то избегающая – как склонность отстраняться, эмоциональная сдержанность, буквальное «я справлюсь сам», даже когда внутри – пустота и тоска; есть и дезорганизованная привязанность – хаотичное сочетание приближения и отталкивания, поведенческих «скачков», бессвязных реакций, часто с корнями в травме.
По маркерам: тревожный тип часто проявляет навязчивое стремление к контакту, контролю и удержанию слишком близкой дистанции в отношениях, склонность к интерпретациям и катастрофизации мелких сигналов. Избегающий – минимизация эмоций, перекладывание фокуса на дела, дистанцирование в конфликтах, холодность в интимных ситуациях. Надежный – готовность к диалогу, умение восстанавливаться после разрыва контакта, уважение границ партнера и своих собственных. Дезорганизованный – непредсказуемые реакции, смешение страха и желания близости, трудности с регуляцией состояния.
Важно подчеркнуть: тип привязанности – это не приговор и не «рейтинг совместимости». Наличие разных стилей усложняет жизнь пары, но не делает ее невозможной. Пары «уживаются» (или нет) не из-за ярлыка «тревожный + избегающий», а из-за того, умеют ли люди замечать свои триггеры, договариваться о взаимодействии и восстанавливать контакт после срывов. Психология романтических отношений – это познание своей и партнерской уникальности; уважение к инаковости часто превращает симпатию в устойчивую привязанность. И да – иногда нужно уметь «отвязываться», дать друг другу пространство, чтобы привязанность не превратилась в зависимость.
Можно ли с течением времени изменить или скорректировать свой тип привязанности? Как в этом стремлении может помочь гештальт-терапевт? На что делается акцент: на осознание потребностей, установление границ, опыт безопасного контакта?
— Изменить – можно. Корректировать – необходимо, если старые шаблоны мешают жить. Ключевые факторы изменения – осознание внутренней карты (какие убеждения и ожидания я ношу), опыт повторяющейся надежности в отношениях и готовность экспериментировать с новыми формами поведения. Гештальт-терапевт помогает именно в этом: мы не просто анализируем «почему», мы создаём «как» – через эксперимент, контакт и опыт. В терапии вы получаете безопасное поле, где можно проиграть ситуацию иначе: попросить, установить границу, проявить уязвимость и не быть отвергнутым. Это – корректирующий опыт.
Практически мы делаем акцент на трех вещах:
- Осознание потребностей и чувств, чтобы не жить в автоматических реакциях;
- Обучение различению, описанию и установлению психологических границ с признанием собственных ограничений в «сейчас», тренировка гибкости в этих вопросах;
- Наращивание опыта доверительного контакта: сначала в терапевтическом взаимодействии, затем в реальной жизни, через небольшие поведенческие эксперименты.
Техники: работа с телесными ощущениями (чтобы отличать тревогу от гнева), ролевые упражнения и «практики запроса» – попросить партнера о конкретной помощи и наблюдать, как он реагирует; работа с «пустыми креслами», чтобы завершить устаревшие переживания в воспоминаниях о прошлых травмирующих привязанностях; и постепенные «выходы в мир» с поддержкой супервизора.
Можно ли сказать, что современная культура с её скоростью, цифровыми коммуникациями и поверхностными знакомствами усиливает тревожные проявления в отношениях?
— Да, современная культура создает благодатную почву для активации тревожных и избегающих паттернов. Цифровая коммуникация лишает нас части сенсорной информации – голоса, интонаций, мимики, прикосновения – те каналы, которые успокаивают и регулируют наши состояния и переживания в моменте. Одновременно появилось явление «доступности и недоступности»: человек онлайн и всегда на связи, но при этом легко исчезает в режиме ghosting. Быстрая смена впечатлений, лайки вместо комплексного и разностороннего контакта, привычка оценивать отношения «по отдаче» усиливают нетерпимость к длительной работе над трансформацией искаженных фильтров восприятия в жизнестойкие и невротические виды поведения. Все это уменьшает толерантность к неопределенности и усиливает требования к моментальной эмоциональной отдаче – то, что подпитывает тревогу и страх отвержения. Но культура не фатальна: осознанная работа над навыками регуляции и осознанные коммуникативные практики помогают нейтрализовать эти риски.
Какая роль у партнёра с надежной привязанностью? Может ли он стать «корректирующим опытом» для человека с тревожным стилем или наоборот?
— Партнер с надежной привязанностью может стать мощным «корректирующим опытом», но это не то же самое, что «лечить» или «спасать». Надежный партнер дает предсказуемость, последовательность и способность к восстановлению контакта – и это важно: повторяющийся опыт надежности перерабатывает внутренние модели, делая их рабочими. Однако здесь есть несколько условий: надежный партнер должен уметь держать границы, не становиться родителем вместо партнера, не включаться в роль спасателя; нужна эмпатия, терпение и готовность обсуждать собственные реакции. Для тревожного человека полезны ясные сигналы: честные договоренности о встречах, прозрачные ответы на просьбы, умение признавать и исправлять ошибки. Для избегающего – мягкое приглашение к близости, отсутствие прессинга, терпеливое отражение чувств и демонстрация того, что уязвимость не приводит к катастрофе.
Существуют и случаи, когда динамика пары «подавляет» возможности роста: постоянное опекание превращается в зависимость, а постоянные попытки «починить» партнера обесценивают его персональный прогресс. Поэтому работа с такими парами – про создание контрактов на взаимодействие, про маленькие эксперименты с доверием и про четкие правила восстановления после разрывов контакта.
Приведение своих привычных паттернов поведения в осознаваемое состояние – первый шаг; затем идут осознанные практики, корректирующий опыт в отношениях и, при необходимости, профессиональная терапевтическая поддержка. Если вы готовы наблюдать себя, формулировать гипотезы о своем поведении и экспериментировать – вы меняете не только свою историю, но и ту географию близости, в которой живут ваши отношения.